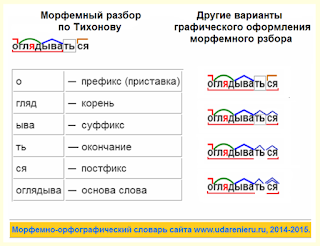Производство наименований лиц
Словообразовательные
процессы конца XX столетия, результатом которых являются собственно инновации,
привели к выявлению наиболее продуктивных моделей сегодняшнего дня. Среди этих
процессов можно назвать активное производство имен лиц. Новые названия
появляются строго в традиционных рамках. Словарь в таком случае расширяется в
угоду жизненной потребности нового времени, например: рыночник, бюджетник, биржевик, суверенщик, антиперестроечник, теневик,
льготник, дубляжник, бутылочник, оборонщик, платник (студент, обучающийся
за плату), силовик, эвээмщик,
компьютерщик и др. Все эти слова необходимы, за ними стоят определенные
реалии. Менее активной оказалась модель с суффиксом -ант, хотя и она сегодня работает с большей нагрузкой, чем раньше.
Ср.: практикант, дипломант и новые
слова — подписант, реабилитант,
деградант, амнистант, номинант и др.
Абстрактные
имена и названия процессов
Растет
класс существительных абстрактных с суффиксами -ость и -изм, а также существительных — названий процессов с
фина-лиями -фикация, -изация. Эти модели также не выходят за пределы
традиционных образований, новыми оказываются лишь сами производящие основы:
1. Вживаемость, бессобытийность, совковость
(советский — совок), газетность, советскость, офисность. Среди абстрактных
имен такого типа много окказиональных: свободность,
рисковость (новая степень свободности, рисковость ходов. — М. Арбатова), общажность (В. Маканин). Например: Меня он
достанет бездомностью: не самой по себе моей вечной общажностью, а тем, что я
об общаге умолчу (В. Маканин. Андеграунд); ...Внутренняя жизнь человека — это некая, как говорят философы,
сплошность, некое единство, образующееся вокруг нашего «я», стержень нашей
личности (А. Мень. Радостная весть); еще примеры из научной речи: Во-первых,
это существительные с суффиксом «женскости» -анк(а) / -енк(а), в которых орфографические варианты с буквами а (я) и е распределяются очень четко:
под ударением в суффиксе всегда пишется а
(я), а в безударном положении — е:
ср., с одной стороны, гречанка, турчанка
<...>, а с другой — француженка,
черкешенка <...> (В.В. Лопатин. Русские суффиксы: фонематический
состав и орфография // Филологический сборник. — М., 1997. С. 295).
Легализм, журнализм.
Фермеризация, криминализация,
компьютеризация, ваучеризация, электронизация, регионализация, рублевизация
(Белоруссии), американизация (кино), презентация, векселезация (долгов),
зарплатизация (доходов), долларизация (сбережений); кинофикация, теплофикация,
спидофикация.
Приставочные
образования и сложные слова
Большую
продуктивность при словообразовании обрели латинские приставки пост-, анти-, про-, а также русские после-, сверх-: постперестроечный, посткоммунистический, постсоветский, посттоталитарный,
поставгустовская (эпоха), постбойкотский (фильм), постпрезидентская (жизнь),
постсолженицынские (романы), постреферендумы (Пострабская наша пустота
заполняется, увы, как попало. — В. Маканин); послеваучерный (этап
приватизации), послепутчевый (период); антитеатр, антидуховность, антирубрика,
антиколлективность, антинейтральность, антиагрессивность, антигегемония,
анти-советскость, антиюбилейные (плакаты); пророссийская оппозиция;
сверхграфиковые (поезда).
Столь
же активны как словообразовательные элементы греч. псевдо- и лат. супер-: псевдоментальный сеанс, псевдодемократ,
псевдорынок, псевдоденьги; суперсвидетель дела, суперэлита, суперЭВМ,
супергруппа, супербогач, суперавтомобиль, суперженщина, суперартист, суперхит,
супермодель.
Среди
продуктивных новообразований эпохи нельзя не отметить всевозможные комбинации
самых разнообразных словообразовательных элементов — от приставок (как
русских, так и чаще иноязычных) до цельнооформленных слов, которые объединяются
в сложные и составные наименования. Вот некоторые примеры:
клиповед, клиполюб, клипорежиссер;
телекиноискусство, телегруппа,
телекоманда, телемания, теледискуссия, телефеерия, телеобраз, телекратия,
тележурналистика, телехулиганы, телецерковь, телеуикэнд;
фотооригинал, фотофестиваль, фотоулика,
фотолюбитель',
киноделяга, киновед;
мини-заповедник, мини-клуб, мини-зонт,
мини-встреча, мини-карнавал, мини-будильник, мини-юбка, мини-метро, мини-мода,
мини-пекарня, мини-жилет, мини-диск, мини-баскетбол, мини-компьютер;
гала-концерт, гала-прическа;
блиц-вояж, блиц-опрос;
брейк-мода, брейк-данс, брейк-дансовый;
пресс-бал, пресс-деревня, пресс-отдел,
пресс-кафе, пресс-сервис, пресс-секретарь, пресс-ложа;
евролитература, евроремонт, евровагонка;
бизнес-справочник, бизнес-школа,
бизнес-центр, бизнес-каталог, шоу-бизнес;
рок-ветераны, рок-тусовка, рок-звезда;
ток-шоу, маски-шоу,
факс-аппарат, факс-бумага, факс-связь,
факс-машина;
шоп-туризм, шоп-рейс, шоп-турист;
Адлер-курорт, Горбачев-фонд,
Дягилев-центр;
бильярд-клуб, бар-бильярд.
Греческое
слово терапия породило целый класс терминологических новообразований, наряду с
известными терминами баротерапия, бальнеотерапия, иглотерапия, электротерапия и
др., в последнее время в связи с обращением к нетрадиционным методам лечения
появились и соответствующие термины: изотерапия,
аэротерапия, ароматотерапия, арттерапия (с помощью воздействия искусством),
балансотерапия, библиотерапия (целенаправленное чтение), галоте-рапия (от греч.
соль), йоготерапия, смехотерапия, стрессотерапия, шокотерапия и мн. др. И
здесь не обошлось без окказиональных слов: Восьмимесячный курс «примакотерапии»
помог Борису Ельцину снова обрести привычную решимость (Итоги, 1999, № 20).